Проблема жанров и форм
Проблема жанров и форм музыкального спектакля столь же далека от разрешения, как и проблема материала, который сегодня подвластен музыкально-сценическому искусству. В 30-х годах драматический театр стоял перед дилеммой: театр условный или театр «реальный», театр «театральности» или театр быта. Современная опера расслоилась под влиянием той же дилеммы. Это видно хотя бы из антагонистичности эстетических принципов Стравинского — и Менотти, Орфа — и Пуленка, Ноно — и Хиндемита. В одних случаях мы имеем условный, метафорический метод, в других — бытовую достоверность материала, пусть даже не современного, а исторического. Однако и театральная условность, и бытовая достоверность в музыкальном театре наших дней равным образом лишили оперу привилегии «нейтральности» по отношению к дискуссионным общечеловеческим проблемам современности.
Баланс элементов
При рассмотрении становится понятной и эволюция Арнольда Уэскера, одну из последних пьес которого — «Времена года» — критики считают экспрессионистской по форме (отсутствие реалий и символичность всей пьесы) и неоромантической по содержанию (мужчина и женщина, герои пьесы, проходят все этапы развития чувств: зиму отчуждения, пробуждения, лето расцвета и осень разочарования и расставания).
Сочетание народных реалистических традиций национального искусства
Маленький человек
Интеллектуалисты,- если оставить в стороне Ибсена, Шоу, Пиранделло,- они, при всей их односторонности (в ту или другую сторону), были гуманистами. Тяжела была эта миссия — в целях защиты гуманизма отказаться от категорий добра, любви, совести и даже долга. Интеллектуалистам пришлось это сделать. Теперь, если присмотреться к документальной драматургии, к театру, включающему документ в систему своих выразительных средств, к повести, повествование которой особым образом сочетает исповедь отдельного лица с бесспорностью исторических документов; наконец, к кинематографу, который в наши дни исследует фашизм как историческое и нравственное уродство века, вооружившись всеми видами документации, графики и публицистики,- если ко всему этому присмотреться, мы в глубине заметим словно бы какой-то силуэт. Это двойник художника-документалиста; это черная тень философствующего и поглощенного политикой интеллектуалиста 40-х годов, который теперь сам стал персонажем исторической драмы. Его авторская роль кончилась, осталась маска. Маска эта «просматривается» сквозь драматургические конструкции, скажем, «Марата» Петера Вайса.
Религиозные процессии
Безделицей, чепухой называет он религиозные процессии и прочие театральные эффекты, используемые церковью,- светящиеся факелы, пышный ритуал обрядов. Лютер сражается с церковью потому, что она рядит истину, словно куртизанку, в изысканные одежды, пудрит, румянит ее, а в результате не способствует раскрытию подлинного смысла слов священного писания, фальсифицирует эти слова. Он ополчается на «пустые вещи для пустых людей». «Комфорт? Удобства?» — почти задыхаясь от гнева, переспрашивает Лютер, когда Томас де Вио, известный как Каэтан, кардинал и генерал доминиканского ордена, спокойно пытается убедить его, что нет большой беды от того, что на деньги, получаемые от продажи индульгенций, церковь, т. е. церковники, обеспечивает себе некоторый комфорт. «Удобства?… Это не касается меня!» — в бешенстве кричит Лютер. Так возникает в пьесе ее вторая важная тема, которая дополняет первую и сливается с ней.
Лютер сражается с церковью потому, что она рядит истину, словно куртизанку, в изысканные одежды, пудрит, румянит ее, а в результате не способствует раскрытию подлинного смысла слов священного писания, фальсифицирует эти слова. Он ополчается на «пустые вещи для пустых людей». «Комфорт? Удобства?» — почти задыхаясь от гнева, переспрашивает Лютер, когда Томас де Вио, известный как Каэтан, кардинал и генерал доминиканского ордена, спокойно пытается убедить его, что нет большой беды от того, что на деньги, получаемые от продажи индульгенций, церковь, т. е. церковники, обеспечивает себе некоторый комфорт. «Удобства?… Это не касается меня!» — в бешенстве кричит Лютер. Так возникает в пьесе ее вторая важная тема, которая дополняет первую и сливается с ней.
Универсальность решений

Конечно, это нечто гораздо более скромное, чем претендующие на универсальность решений пьесы Э. Ионеско или С. Беккета. Однако некое духовное родство связывает их с «Карьерой мота» (и, может быть, это менее удивительный случай проникновения в оперу черт драматургии абсурда, чем, например, случай с «Жюльеттой» Богуслава Мартину, оригинальной «оперой абсурда», сочиненной в Париже еще в 1936 г.). Но так или иначе, «Карьера мота» — это остроумная «заупокойная служба» по опере, символическая «черная месса» искусству традиционной европейской оперы, господствовавшей на музыкальной сцене почти три столетия.
Развлечения и дешевые приманки людей

Лютер Осборна — и фанатик, и бунтарь. Он и верит, и сомневается; а чем больше сомневается, тем больше верит, как это ни парадоксально. Во-первых, он хочет служить истине свободно, без насилия, оставаясь самим собой. В первой же сцене посвящения в монахи со всей ясностью поставлен этот вопрос: перед Лютером открываются два пути — или немедленно покинуть монастырь, или стать братом Мартином и во всем повиноваться отныне богу и ордену. «Если ты решишь, то не будешь свободным»,- предупреждает настоятель. Лютер, не раздумывая, выбирает второй путь, но в тот же момент все существо его восстает: почему он не может оставаться при этом свободным, почему должен отказаться от самого себя? Вера из-под палки не устраивает Лютера. Так сразу, в полный голос, начинает звучать в пьесе ее первая, едва ли не самая главная тема.
Непосредственная передача зрителю
Натурализм, как он справедливо считал, был лишь средством передать состояние сознания. Правильность такого взгляда подтвердила эволюция английской драмы последних десяти лет.
Непосредственная передача зрителю того или иного состояния чувств и сознания с помощью определенной сценической структуры составляет основной принцип экспрессионизма. И хотя у англичан эта сценическая структура по преимуществу материальна, и телесная ощутимость быта составляет одну из главных характеристик английской драмы, материальность и телесность здесь — только средства. Непреодолимых препятствий для иного решения проблемы контакта со зрителем нет. Отсюда такое органическое восприятие английскими режиссерами и драматургами по-разному истолкованных театральных принципов Брехта. (Посещение «Берлинским ансамблем» Лондона в 1956 г. было крупнейшим театральным событием сезона.) Простым копированием внешних форм здесь мало что объяснишь.
Документальная драма
Наконец, документальная драма, не останавливаясь ни перед чем, не щадя чувств зрителя напоминанием о садизме, лагерях смерти и преступниках фашизма, неумолимо и совсем уже неожиданно перекликается с еще одним новым театральным явлением Запада — с «театром жестокости». И хотя перекличка эта симптоматична, но вопрос о «театре жестокости», полностью противостоящем интеллектуализму и связующем особой нитью драму абсурда с обновленной традицией экспрессионизма,- проблема особая, тема иной статьи.
Финалы актов
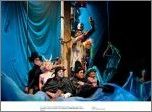
Актеры играли в брехтовском ключе, в так называемом эпическом стиле, отказавшись от техники «вживания» в образ. Финалы актов исполнялись всей труппой, в полный голос, при ярком свете, прямо на зрителя. Это были своего рода призывы, крики, носившие характер прямого провоцирования зрителя. Созданию эпического стиля игры способствовали и хоры, и щиты, на которые проецировались заголовки отдельных сцен. Спектакль Пикколо-театра (особенно во второй редакции — 1958 г.) был истинно брех-товским, объединяя элементы площадной, откровенно зрелищной драматургии и повествовательного, эпического театра.

 Собственный «театр абсурда»
Собственный «театр абсурда» Современная английская драма
Современная английская драма Драматизм образа Юрека
Драматизм образа Юрека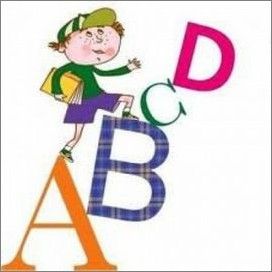 Конец Колина
Конец Колина Вторая поправка Мерсера
Вторая поправка Мерсера Первая поправка
Первая поправка Атмосфера страха
Атмосфера страха Творческая эволюция
Творческая эволюция Эксперимент строительства социализма
Эксперимент строительства социализма Внешняя картина
Внешняя картина