Три стихии
Три стихии: мятущаяся душа Граймса, любопытством и злобой одушевляемая толпа и безучастное к человеку, своей жизнью живущее море в равной мере глубоко отражены средствами музыки, и драматической, и описательно-иллюстративной. Изменчивые лики моря нарисованы симфоническими интерлюдиями, житейская суета и несложные построения «коллективного разума» общины передаются в хоровых сценах, попытки самоутверждения личности и агония раздавленного человека — в речитативе и редко — в мелодическом пении.
Изменчивые лики моря нарисованы симфоническими интерлюдиями, житейская суета и несложные построения «коллективного разума» общины передаются в хоровых сценах, попытки самоутверждения личности и агония раздавленного человека — в речитативе и редко — в мелодическом пении.
Нерасчлененность сознания

Нерасчлененность сознания, на основе которой вырастает мифология, интуитивистские критики буржуазной цивилизации противопоставляют разрыву между бытием и мышлением у современного «отчужденного» человека.
Значения нравственных побуждений

Вовсе не отвергает значения нравственных побуждений человека, но направляет их в другую сторону. У него совсем другая цель -возмутить трудовой народ против несправедливой жизни. Он предлагает людям изменить существующее положение вещей, а не размышлять о том, как при существующем положении вещей нравственно вести себя»
Образ «взбунтовавшегося человека»

Образ «взбунтовавшегося человека» — вечного оппозиционера, заимствованный у экзистенциализма, у Камю, возвышается над теоретическими размышлениями Мельхингера, над его анализом старой и новой жизни «элементарных драматических форм».
Признание Джона Ардена

Любопытно в этом смысле признание Джона Ардена, который считает, что воздействие на него Брехта сказалось прежде всего в том, что заставило обратить особое внимание на такие источники творческого вдохновения, как средневековые аллегории, драмы елизаветинцев, а также стили древнего японского и китайского театров.
Обряды культа Диониса

Мученичество всегда задумано Господом ради его любви к людям, чтобы предупредить их и вести их по пути господнему… Истинный мученик — тот, кто становится исполнителем божьей воли, кто растворил свою волю в воле Бога и кто уже ничего не желает для себя, даже славы мученика».
Немецкий гений

Немецкий гений изучал панораму современного человека в телескоп, как бы на огромном отдалении от нее, он показывал трагедии века общим планом, с учетом гигантской исторической ретроспективы. Француз, воспитанный в школе Декарта, бесстрашно подошел к нашему «веку-волкодаву» вплотную, вооруженный лупой, готовый продемонстрировать человечеству все его уродства.
Буржуазный эстетизм Арто
Буржуазный эстетизм Арто называет «западным», противопоставляя Западу Восток, в искусстве которого, по его мнению, есть стремление к мистическому абсолюту, в противоположность «западному» интересу к частному, единичному, к психологии, у «Духовное нездоровье Запада — где, par excellence, смешивают искусство и эстетизм,- обнаруживается, когда думают, что в живописи главное — сама живопись, что в танце главное — пластика; это ведь просто попытка кастрировать формы искусства, обрубить их связи со всеми мистическими значениями, которые они могут приобрести в соприкосновении с абсолютом» . Механизм подобного хода мысли такой же, как и в экспрессионистском отрицании детерминизма, индивидуальной психологии, конкретности. Эмпирия отбрасывается, как нечто принадлежащее «неподлинному существованию» (понятие, введенное философами-экзистенциалистами), и когда вместе с картиной действительности отбрасывается анализ социальных отношений, оформивших ее, на первый план выступает нечто абсолютно всеобщее, образ высшей реальности, постичь и ощутить которую можно лишь глубоко лично, путем интуиции, пробуждающейся в священном экстазе.
Механизм подобного хода мысли такой же, как и в экспрессионистском отрицании детерминизма, индивидуальной психологии, конкретности. Эмпирия отбрасывается, как нечто принадлежащее «неподлинному существованию» (понятие, введенное философами-экзистенциалистами), и когда вместе с картиной действительности отбрасывается анализ социальных отношений, оформивших ее, на первый план выступает нечто абсолютно всеобщее, образ высшей реальности, постичь и ощутить которую можно лишь глубоко лично, путем интуиции, пробуждающейся в священном экстазе.
Молодые английские авторы
Молодые английские авторы вовсе не искали спасения в повседневной житейской конкретности, не уповали на нет, не собирались на нее опираться.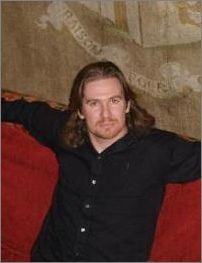 Все это чуждо вообще послевоенному западному искусству. Человек изображается отъединенным от конкретной бытовой среды, окруженный чуждым ему хороводом вещей, неспособных ни помочь ему, ни утешить его. Лишь на короткий срок, в самые первые послевоенные годы, художники итальянского неореализма запечатлели трогательную близость человека простым бытовым приметам окружающей его жизни. В этом выразилась увлеченная вера в торжество обыденной, скромной, пусть даже пока убогой, почти нищей жизни в стране, народ которой успешно изгнал собственных и иноземных фашистов. И злосчастный велосипед, и сдаваемые в ломбард не первой свежести простыни — живая, одухотворенная часть существования безработного Риччи и членов его семьи. Так же, как дурно обставленная комната, часы и саквояж — реальные частицы жизни Умберто Д. и т. д.
Все это чуждо вообще послевоенному западному искусству. Человек изображается отъединенным от конкретной бытовой среды, окруженный чуждым ему хороводом вещей, неспособных ни помочь ему, ни утешить его. Лишь на короткий срок, в самые первые послевоенные годы, художники итальянского неореализма запечатлели трогательную близость человека простым бытовым приметам окружающей его жизни. В этом выразилась увлеченная вера в торжество обыденной, скромной, пусть даже пока убогой, почти нищей жизни в стране, народ которой успешно изгнал собственных и иноземных фашистов. И злосчастный велосипед, и сдаваемые в ломбард не первой свежести простыни — живая, одухотворенная часть существования безработного Риччи и членов его семьи. Так же, как дурно обставленная комната, часы и саквояж — реальные частицы жизни Умберто Д. и т. д.
Разговорные диалоги
Разговорные диалоги гибко чередуются с вокальными соло и ансамблями в свободных, незамкнутых структурах. Интересны замечательное мастерство и находчивость, с которыми Фортнер сочетает традиционные и новейшие технические приемы, ставшие доступными и «дозволенными» в немецкой музыке после 1945 г. «Кровавая свадьба» начинается как правоверное сочинение композитора шенберговской школы: фразы деревянных духовых сразу обнаруживают технику «рядов» — серий. Но вскоре появляются и характерные танцевальные ритмы, и тональные гармонии, и мелодические «почти цитаты» из испанских песен, а между тем всюду сохраняется органичность, естественность развития музыкальной мысли и высокое стилистическое единство. В пределах одного произведения умещаются, не противореча друг другу, старинная испанская народная песня с гитарами и кастаньетами (конец первого акта) и строгая до декафонная композиция («Лес» — сцена преследования беглецов и поединок соперников).
Интересны замечательное мастерство и находчивость, с которыми Фортнер сочетает традиционные и новейшие технические приемы, ставшие доступными и «дозволенными» в немецкой музыке после 1945 г. «Кровавая свадьба» начинается как правоверное сочинение композитора шенберговской школы: фразы деревянных духовых сразу обнаруживают технику «рядов» — серий. Но вскоре появляются и характерные танцевальные ритмы, и тональные гармонии, и мелодические «почти цитаты» из испанских песен, а между тем всюду сохраняется органичность, естественность развития музыкальной мысли и высокое стилистическое единство. В пределах одного произведения умещаются, не противореча друг другу, старинная испанская народная песня с гитарами и кастаньетами (конец первого акта) и строгая до декафонная композиция («Лес» — сцена преследования беглецов и поединок соперников).
 Собственный «театр абсурда»
Собственный «театр абсурда» Современная английская драма
Современная английская драма Драматизм образа Юрека
Драматизм образа Юрека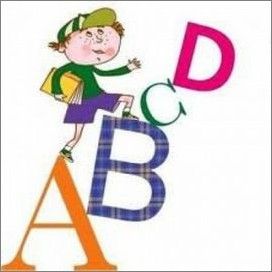 Конец Колина
Конец Колина Вторая поправка Мерсера
Вторая поправка Мерсера Первая поправка
Первая поправка Атмосфера страха
Атмосфера страха Творческая эволюция
Творческая эволюция Эксперимент строительства социализма
Эксперимент строительства социализма Внешняя картина
Внешняя картина