Романтическая абстрактная постановка вопроса

Для Данте с его средневековой иерархией ценностей вопрос решался проще: насильники, разделяющие свой грех с животными, несут за него в аду не такие суровые кары, как обманщики, чей грех присущ одному лишь человеку. Для тех, кто в наше время пытается определить, чей грех больше — общественной машины буржуазного общества, этого воплощения обмана, или кровожадного дикаря, которого машина либо перемалывает, либо использует в своих интересах, как это делали нацисты,- задача оказывается не из легких.
Романтическая абстрактная постановка вопроса усложняется историческим опытом и жизнью, однозначное решение уже не удовлетворительно. Подобный вывод делает, например, английский драматург Р. Болт, комментируя свою пьесу «Кроткий Джек» (1963): «Мир чистого разума и мир чистой импульсивности в равной мере непригодны для человеческих существ». Но тем не менее всякая попытка эстетически преодолеть человеческое одиночество в мире отчуждения, однобоко трактуемого как продукт рациональной деятельности, приводит к созданию иллюзии общности в дионисийском экстазе. Его современные эквиваленты в жизни — наркотики, шамански-монотонное пение популярных «идолов» под оглушающий аккомпанемент электрогитар, вводящие в ритмический транс танцы. И театр, генетически близкий к подобным крайностям (вспомним о происхождении трагедии), пытается найти свой путь, совмещая рационализм Брехта и сенсуализм Арто. Подходящим материалом для такого эксперимента стала пьеса Петера Вайса «Преследование и убийство Марата, представленное пациентами сумасшедшего дома в Шарантоне в режиссуре маркиза де Сада».
 Собственный «театр абсурда»
Собственный «театр абсурда» Современная английская драма
Современная английская драма Драматизм образа Юрека
Драматизм образа Юрека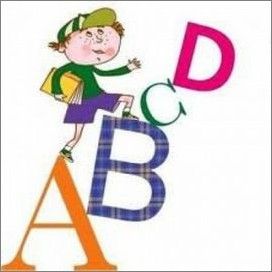 Конец Колина
Конец Колина Вторая поправка Мерсера
Вторая поправка Мерсера Первая поправка
Первая поправка Атмосфера страха
Атмосфера страха Творческая эволюция
Творческая эволюция Эксперимент строительства социализма
Эксперимент строительства социализма Внешняя картина
Внешняя картина