Культ действия

Культ действия, превращение патриотизма в агрессию и нацизм, силы в насилие, национальной культурной традиции — в систему расистского мышления, наконец, спекуляция на словах «революция» и «социализм», превращение энергии масс в энергию штурмовиков, вишистов, петеновцев и т. д.- вот мишени, по которым расстрелял патроны французский интеллектуализм во время войны и сразу после нее.
Подлинный поэтический язык

Подлинный поэтический язык в драме должен иметь такое же широкое поле употребления, как у величайших мастеров прошлого, а именно у Шекспира, умевшего говорить стихами о самом простом, обыденном.
Время действия
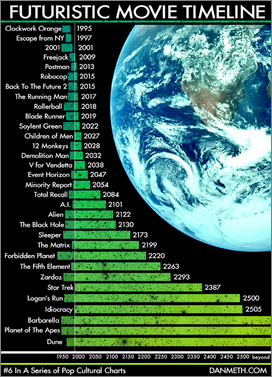
Следующий за песней диалог вводит обе темы. Время действия — летнее утро, заключенные в отличном настроении, но их разговор — об ожидаемой казни. Во всех неумолимо жестоких подробностях описываются последние часы смертников и совершение казни — то и другое происходит по раз и навсегда заведенному ритуалу. Затем, вплоть до копна акта, тема смерти отступает вглубь, но непрестанно напоминает о себе в отдельных фразах, чтобы снова вырваться наружу в заключительном эпизоде появления чиновника Хили. Этот визит сам по себе имеет зловещий смысл: он тоже часть ритуала подготовки к казни. Ужас предстоящею вновь завладевает сознанием благодаря репликам Ригена, в которых обтекаемые фразы Хили переводятся на язык грубых фактов:
Современное движение Народных театров

Современное движение Народных театров на практике осуществляет три условия, которые выдвигал Ромен Роллан еще в начале нашего века. Определяя задачи Народного театра, Роллан писал, что он прежде всего призван доставлять физический и моральный отдых труженику, уставшему после рабочего дня. Но отдых никоим образом не должен ослаблять духовную энергию, а наоборот — «театр обязан служить источником энергии» и быть «могучим стимулом к действию». К тому же театр обязан «просвещать ум», учить «народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить обо всем этом». «Радость, сила и просвещение» — этот лозунг Роллана вдохновляет современных деятелей Народных театров. Их идейно-творческие программы строятся так, чтобы нести своему демократическому зрителю знания и культуру, будить его мысль и одновременно доставлять ему радость и развлечение.
Четвертая стена
Если в драме натурализма существует «четвертая стена», и зритель, как сквозь стенку аквариума, наблюдает за тем, что происходит в сценической коробке, где воспроизводится внутренняя среда пьесы, то экспрессионизм эту стену разбивает, и все как бы выхлестывается на зрителя. Теперь он уже не пассивный наблюдатель, опосредованно воспринимающий пьесу путем наблюдения за персонажами. Все направлено непосредственно на него: яркие краски, крики, речь в публику. Он становится участником представления. Условность приобретает новый характер: она существует не только для зрителя; не будучи одновременно реальностью для персонажей, условность становится связующим звеном между сценой п залом, создавая единство зрителей и актеров.
Преимущество поэтической драмы

Драма имеет то преимущество (перед другими видами искусства), что она может представить мир более полно, и еще одно, что корни ее уходят в обряды, ритмы которых близки человеческому естеству».
Абсурдизм как аберрация
Представлять абсурдизм как аберрацию нормальных художественных понятий уже нельзя. «Театр абсурда» принадлежит к тем фактам, которые нельзя ни отменить, ни замолчать.
«Театр абсурда» принадлежит к тем фактам, которые нельзя ни отменить, ни замолчать.
Толкование деталей
Толкование деталей и оттенков этой идейной схемы может быть достаточно широким. Замысел воплощен Шенбергом с изумительным мастерством и силой художественного воздействия. Философская опера-оратория, вопреки общераспространенным предрассудкам, не лишена и своеобразной театральности. Музыка, построенная на одной двенадцати- звучной серии, предельно красочна и выразительна. Слушатель не подозревает о присутствии какой-либо «серии» и о манипуляциях с ней. «Техника» сочинения остается незаметной. Чувствуется, однако, прочное единство музыкальных интонаций, гармоническое равновесие музыкальной формы.
Способность возрождаться
Менее пристально обычно рассматривают психологию и идеалы фашизма, а они-то как раз обладают способностью возрождаться в новом обличье и находить своих последователей в наши дни.
Фашизм всегда опирался и опирается не только на шкурнические и низменные инстинкты, но и на некоторые высокие духовные, идеальные побуждения людей, намечая действенный выход из социальных и философских противоречий. (Так, гитлеровские идеологи задним числом «обращали» в свою веру «антихриста» Ницше и фаустианство Гете, «варварское неистовство» Вагнера и романтизм Клейста, идеализм Шеллинга и Фихте, рассудительный фанатизм Лютера; миф о Нибелунгах трактовали как мессианское свидетельство величия, мистики и избранности «германского духа»; в Италии аналогичной фальсификации — без мистики, правда,- подвергались великие стили прошлого — ренессанс и барокко, не говоря уже о древней римской государственности.) Об этой «идеальной», духовной стороне дела достаточно углубленно написано в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна. Обычно, говоря об этой книге и ее проблемах, сосредоточивают свое внимание на вопросах искусства Леверкюна, уже зашедшего в душевный тупик. Меньше внимания уделено нашими исследователями тем страницам и главам этой книги, которые прямо и последовательно отвечают на вопрос о том, как в студенческих немецких кружках возникала духовная подготовленность и потребность в идее фашистского типа. Только размышляя над этой проблематикой книги Манна, можно приблизиться к пониманию того, почему гестаповцы после палаческой своей работы со спокойной душой слушали Моцарта; или почему воспитанный военной идеологией человек массы (в документальном фильме «Человек, который улыбается») продолжает улыбаться и в 60-е годы: готовые схемы из него не вышибешь.
Обычно, говоря об этой книге и ее проблемах, сосредоточивают свое внимание на вопросах искусства Леверкюна, уже зашедшего в душевный тупик. Меньше внимания уделено нашими исследователями тем страницам и главам этой книги, которые прямо и последовательно отвечают на вопрос о том, как в студенческих немецких кружках возникала духовная подготовленность и потребность в идее фашистского типа. Только размышляя над этой проблематикой книги Манна, можно приблизиться к пониманию того, почему гестаповцы после палаческой своей работы со спокойной душой слушали Моцарта; или почему воспитанный военной идеологией человек массы (в документальном фильме «Человек, который улыбается») продолжает улыбаться и в 60-е годы: готовые схемы из него не вышибешь.
Наше время

Попытке обнаружить с помощью искусства скрытый смысл действительности положен предел: у современной западной публики нет веры в мифический и ритуальный порядок, которую исповедуют сторонники «поэтического театра». «Освободившись от ограниченности современного реализма, поэтический театр не нашел в то же время своего места в реальной общественной перспективе, утратил свою общественно ощутимую и общепринятую функцию зеркала человеческой природы… Каждый драматург-поэт платонически воплощает свою прекрасную последовательную н ясную идею, но аморфная публика, повернувшись к нему спиной, поглощена тенями на стенах пещеры, отброшенными процветающей коммерцией».
 Собственный «театр абсурда»
Собственный «театр абсурда» Современная английская драма
Современная английская драма Драматизм образа Юрека
Драматизм образа Юрека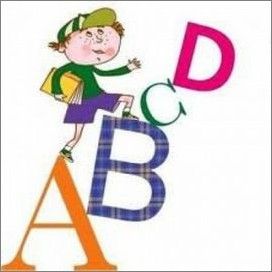 Конец Колина
Конец Колина Вторая поправка Мерсера
Вторая поправка Мерсера Первая поправка
Первая поправка Атмосфера страха
Атмосфера страха Творческая эволюция
Творческая эволюция Эксперимент строительства социализма
Эксперимент строительства социализма Внешняя картина
Внешняя картина