Вопрос с отчуждением человека от общества
Суть в том, что фашизм должен был как-то урегулировать вопрос с отчуждением человека от общества. Он сделал это путем чисто идеологической операции: отчуждение личности от общества и государства было умело подменено — с использованием идеалов и инстинктов — отчуждением человека от самого себя. Без этого условия никакая фашистская идеология, государственность, психология и война существовать не могут. Единство должно было быть достигнуто во что бы то ни стало. Для достижения видимости, парадной мнимости фашистского единства (государственного и идеологического) следовало вместе с ликвидацией буржуазной демократии искусственно снять, зашифровать отчуждение личности от государства, содержавшее в себе нежелательный, неконтролируемый элемент свободы. (Он-то, этот элемент личной свободы, и станет специальной проблемой и заботой экзистенциалистской драматургии: ануйлевская Антигона пойдет на смерть фактически для того, чтобы отстоять свое право на спасительное отчуждение от Креона и его государства.)
Он сделал это путем чисто идеологической операции: отчуждение личности от общества и государства было умело подменено — с использованием идеалов и инстинктов — отчуждением человека от самого себя. Без этого условия никакая фашистская идеология, государственность, психология и война существовать не могут. Единство должно было быть достигнуто во что бы то ни стало. Для достижения видимости, парадной мнимости фашистского единства (государственного и идеологического) следовало вместе с ликвидацией буржуазной демократии искусственно снять, зашифровать отчуждение личности от государства, содержавшее в себе нежелательный, неконтролируемый элемент свободы. (Он-то, этот элемент личной свободы, и станет специальной проблемой и заботой экзистенциалистской драматургии: ануйлевская Антигона пойдет на смерть фактически для того, чтобы отстоять свое право на спасительное отчуждение от Креона и его государства.)
Натуралистическая драма протеста
Чопорным блюстителям порядка и нравственности было от чего стыдливо морщиться и сетовать! Место действия пьесы Биэна «Смертник» — тюрьма; место действия «Заложника» — не то притон, не то самый что ни на есть низкопробный бордель в Дублине. Обитателей этого дома никак не заподозришь в добропорядочности. «А ну, пошли вон со сцены, погань проклятая!» — кричит проститутка женоподобным юношам, едва открывается занавес. «Порядочной проститутке тут копейки не заработать, когда кругом такие вот вертятся», — сетует она. Молодые драматурги, взяв зрителей за руки, отправились вместе с ними на рынки, в трущобы, в заведения, почище тех, какие возглавляла миссис Уоррен в Лондоне, Брюсселе и Вене, столкнули их лицом к лицу с бродягами, нищими и преступниками.
Обитателей этого дома никак не заподозришь в добропорядочности. «А ну, пошли вон со сцены, погань проклятая!» — кричит проститутка женоподобным юношам, едва открывается занавес. «Порядочной проститутке тут копейки не заработать, когда кругом такие вот вертятся», — сетует она. Молодые драматурги, взяв зрителей за руки, отправились вместе с ними на рынки, в трущобы, в заведения, почище тех, какие возглавляла миссис Уоррен в Лондоне, Брюсселе и Вене, столкнули их лицом к лицу с бродягами, нищими и преступниками.
Поэтическая драма
В 1933 г. в статье «Польза поэзии» Элиот писал: «Мне представляется, что идеальной средой для поэзии, а также самым прямым средством ее социального использования является театр». Элиот называет чистое искусство «химерой, порожденной сенсацией». Для него искусство является средством выражения определенной системы взглядов, «особого ощущения и видения, общих эмоций и безличных идей».
Лучшие пьесы Л. Хеллман
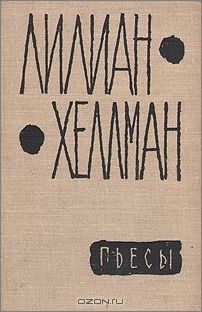
Лучшие пьесы Л. Хеллман в известной степени сочетают чеховскую сдержанность с напряженным психологизмом в духе Достоевского.
Мученичество отдельных избранных членов

Уровень этот зависит от ситуации, в которую поставила человека жизнь, и от того, насколько полно он способен осознать трагическое начало земного существования. Мученичество отдельных избранных членов христианской общины должно повлиять на ее сплочение, раскрыть для непосвященных истинный смысл существования, привести их к сознанию, что жертвоприношение совершено для них. Интересно, что постепенно, особенно в послевоенных пьесах Элиота, трагическая фигура мученика все дальше и дальше отступает на задний план, и все более автор уделяет внимание тому, как совершенствуется общество, осененное тенью страдальца- Однако это дело будущего. К 30-м годам Элиота привлекает именно сам факт страдания. Он создает прежде всего ситуацию, которая ставит героя перед необходимостью выбора. Свобода героя заключается в этой возможности выбора внутри заданной ситуации. Именно выбор позволяет автору полностью воссоздать характер героя.
Драматизированная притча

Драматизированная притча осталась одним из наиболее распространенных жанров драматургии середины XX в. Проблемы, поднятые драматургией военного времени, также остались в театре. Все новые и новые варианты кардинальных тем о природе человека и общества, о законах жизни, о нравственности, духовных и материальных благах освещает драматургия послевоенного времени то в обобщающей притче, то в форме изображения совершенно реальных жизненных конфликтов.
Интеллектуализм в драматургии
Несомненно, интеллектуализм в драматургии начался гораздо раньше. Во всяком случае, литературные истоки и предшественники у этого течения имелись. Символизм, скажем, у Ибсена после целой эпохи позитивизма в философии и натурализма в литературе приобрел резко выраженный интеллектуальный характер, явившись первой поэтически «остраненной» формой интеллектуализма в литературе. Затем в духовную жизнь нашего столетия решительно вступил Бернард Шоу, воинственно сменивший традиции критического реализма на доспехи политического писателя-парадоксалиста, с достаточно обширными интеллектуалистскими претензиями. Далее — явление Луиджи Пирандслло. Разве Пиранделло, какие бы тут ни делать оговорки, уточнения и поправки, не явился живописцем человеческого сознания, его тревог и беспокойства, ищущего, на что бы опереться в самом себе? Это было беспокойство чисто интеллектуального порядка, хотя и иррациональное по своему характеру. (Перед нами парадокс пиранделлизма: иррационализм мировоззрения и изобразительного материала при отчетливом рационализме, даже житейской рассудочности творческого метода.)
Во всяком случае, литературные истоки и предшественники у этого течения имелись. Символизм, скажем, у Ибсена после целой эпохи позитивизма в философии и натурализма в литературе приобрел резко выраженный интеллектуальный характер, явившись первой поэтически «остраненной» формой интеллектуализма в литературе. Затем в духовную жизнь нашего столетия решительно вступил Бернард Шоу, воинственно сменивший традиции критического реализма на доспехи политического писателя-парадоксалиста, с достаточно обширными интеллектуалистскими претензиями. Далее — явление Луиджи Пирандслло. Разве Пиранделло, какие бы тут ни делать оговорки, уточнения и поправки, не явился живописцем человеческого сознания, его тревог и беспокойства, ищущего, на что бы опереться в самом себе? Это было беспокойство чисто интеллектуального порядка, хотя и иррациональное по своему характеру. (Перед нами парадокс пиранделлизма: иррационализм мировоззрения и изобразительного материала при отчетливом рационализме, даже житейской рассудочности творческого метода.)
Трагедия разума

«Трагедия разума» и «трагедия страсти» противопоставили себя друг другу, запечатлев тем самым расщепленноо общественное сознание буржуазного человека — отлученного от природы, отторгнутого от естественной гармонии жизни. Друг от друга отделились и автономизировались начала, призванные по своей природе друг друга дополнять: разум и чувство, мудрость и страсть, вечное и моментальное, всеоб-щее и единичное, сущность и явление. Это расщепление зафиксировано в развитии драмы на протяжении всего нового времени.
Ощущение мирового хаоса

Очевидно, это ощущение мирового хаоса было в большой мере присуще и самому Элиоту. Уже в одной из своих ранних статей по вопросам драмы — «Четыре драматурга-елизаветинца» (1924) он выдвигает требование строгой дисциплины драматургического материала и подчинения всех частей целому, что может быть достигнуто только при абстрагировании от реальности. Точное следованно жизни лишает искусство истинной универсальности и вневременности — качеств, которые отличают героя элиотовской драмы. Подлинная действительность для Элиота — жизнь духовная, доступная только некоторым избранным. Трагедия такой избранной личности, осужденной на жизнь в обществе, лишенном духовного сознания, все больше занимает поэта. Однако достижение этой высшей реальности духа, по Элиоту, возможно только через страдание.
Двойное наложение

Происходит как бы двойное наложение, рационалистический метод этого рода можно назвать «тавтологическим» в художественном отношении: «разум разумен, ибо это разум». Такой предмет и такой метод исследования требует отрешенности не только от зеркального отражения действительности, но и от образности; требует некоей «обезвоженности» произведения искусства. (Ибо образность «неразумна», вернее, не только разумна.) Это, так сказать, интеллектуалист в чистом виде, интеллектуалист, как таковой; короче говоря это — Сартр.
 Собственный «театр абсурда»
Собственный «театр абсурда» Современная английская драма
Современная английская драма Драматизм образа Юрека
Драматизм образа Юрека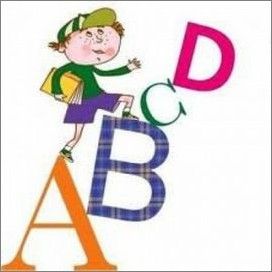 Конец Колина
Конец Колина Вторая поправка Мерсера
Вторая поправка Мерсера Первая поправка
Первая поправка Атмосфера страха
Атмосфера страха Творческая эволюция
Творческая эволюция Эксперимент строительства социализма
Эксперимент строительства социализма Внешняя картина
Внешняя картина