Абсурдизм как аберрация
Представлять абсурдизм как аберрацию нормальных художественных понятий уже нельзя. «Театр абсурда» принадлежит к тем фактам, которые нельзя ни отменить, ни замолчать.
«Театр абсурда» принадлежит к тем фактам, которые нельзя ни отменить, ни замолчать.
Способность возрождаться
Менее пристально обычно рассматривают психологию и идеалы фашизма, а они-то как раз обладают способностью возрождаться в новом обличье и находить своих последователей в наши дни.
Фашизм всегда опирался и опирается не только на шкурнические и низменные инстинкты, но и на некоторые высокие духовные, идеальные побуждения людей, намечая действенный выход из социальных и философских противоречий. (Так, гитлеровские идеологи задним числом «обращали» в свою веру «антихриста» Ницше и фаустианство Гете, «варварское неистовство» Вагнера и романтизм Клейста, идеализм Шеллинга и Фихте, рассудительный фанатизм Лютера; миф о Нибелунгах трактовали как мессианское свидетельство величия, мистики и избранности «германского духа»; в Италии аналогичной фальсификации — без мистики, правда,- подвергались великие стили прошлого — ренессанс и барокко, не говоря уже о древней римской государственности.) Об этой «идеальной», духовной стороне дела достаточно углубленно написано в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна. Обычно, говоря об этой книге и ее проблемах, сосредоточивают свое внимание на вопросах искусства Леверкюна, уже зашедшего в душевный тупик. Меньше внимания уделено нашими исследователями тем страницам и главам этой книги, которые прямо и последовательно отвечают на вопрос о том, как в студенческих немецких кружках возникала духовная подготовленность и потребность в идее фашистского типа. Только размышляя над этой проблематикой книги Манна, можно приблизиться к пониманию того, почему гестаповцы после палаческой своей работы со спокойной душой слушали Моцарта; или почему воспитанный военной идеологией человек массы (в документальном фильме «Человек, который улыбается») продолжает улыбаться и в 60-е годы: готовые схемы из него не вышибешь.
Обычно, говоря об этой книге и ее проблемах, сосредоточивают свое внимание на вопросах искусства Леверкюна, уже зашедшего в душевный тупик. Меньше внимания уделено нашими исследователями тем страницам и главам этой книги, которые прямо и последовательно отвечают на вопрос о том, как в студенческих немецких кружках возникала духовная подготовленность и потребность в идее фашистского типа. Только размышляя над этой проблематикой книги Манна, можно приблизиться к пониманию того, почему гестаповцы после палаческой своей работы со спокойной душой слушали Моцарта; или почему воспитанный военной идеологией человек массы (в документальном фильме «Человек, который улыбается») продолжает улыбаться и в 60-е годы: готовые схемы из него не вышибешь.
Эффект сопереживания
Того немногого, что становится известно о смертнике (он принял участие в товарище по заключению, в свой последний вечер гонял по двору мяч, а потом стоял, подняв лицо к небу), недостаточно, чтобы он стал пля нас конкретной, неповторимой личностью — тогда бы его драма затмила все остальное, но достаточно для того, чтобы возник эффект сопереживания. Автор не оправдывает убийцу (причины его преступления остаются неизвестными), но не может примириться с тем, что право вершить человеческими судьбами дано суду пристрастному и неправедному. Простое сопоставление фактов говорит о несправедливости буржуазного правосудия: мяснику, зарезавшему брата, вынесен смертный приговор; джентльмену, до смерти избившему жену, смертный приговор заменен пожизненным заключением; другой джентльмен — худший преступник из трех, растратчик, из-за которого два человека покончили с собой,- жив и здоров, не испытывает угрызений совести и, отсидев небольшой срок, снова займет место в обществе. Так наглядно раскрывается то, о чем говорит Риген: в тюрьме сидят мелкие преступники, а крупные, имеющие деньги и власть, гуляют на свободе. Тем острее ощущают арестанты надвигающуюся смерть безымянного парня, одного из них.
Искренне верующие

В мысли автора нет прямолинейной назидательности: заключенные, разумеется, тоже далеко не ангелы, но дело не в личных качествах, а в том, какое развитие они получают и в какой среде. Даже, казалось бы, традиционные национальные предрассудки имеют точный социальный адрес. Англичанин-койтрабандист — свой среди заключенных, а англичанин-палач для тюремных властей — чун;ак. Начальник тюрьмы сетует: «Мы помещали объявление, что требуется палач-ирландец… с хорошим знанием ирландского языка… Но не было подходящих кандидатур».
Разрушение «единства»

Высшей своей миссией, благородной духовной своей «ангажированностью» интеллектуализм считал разрушение этого «единства» в умах людей и в то же время воссоединение разорванного надвое человеческого сознания. Другими словами, интеллектуализм во всех своих различных стадиях и проявлениях связан с эпопеей антифашизма. Когда разразилась война, произошла вспышка «раскаленного разума» (Аполлинер), образовав целую школу новой трагедии.
Рабская психология

Засадить человека в тюрьму и даже лишить его жизни, но бессильны внушить страх или почтение. Наверху придумывают законы и установления — а внизу живут независимо от навязанной государством регламентации, ей наперекор.
Современные ирландцы

Некогда Шоу с огромной горечью писал о трагической подоплеке веселья своих соотечественников: «…бессмысленный, ужасный, злобный смех. Пока ты молод, ты пьянствуешь с другими молодыми парнями и сквернословишь вместе . с ними; и так как сам ты беспомощен и не умеешь ни помочь им, ни подбодрить их, ты скалишь зубы, и язвишь, и издеваешься над ними — зачем они не делают того, что ты сам не смеешь сделать».
Обитатели тюрьмы

В пьесах Уэскера «Кухня» и «Картошка ко всем блюдам» кухня ресторана и военный лагерь (модели общества) — тюрьма для тех, кто в них находится.
Смещение фокуса внимания

Смещение фокуса внимания принципиально: пьеса не об одном человеке, обреченном на смерть, а о многих людях, остающихся жить; этим и определяется жанр пьесы- «комедия-драма» (термин принадлежит самому Биэну).
Философское и социальное содержание
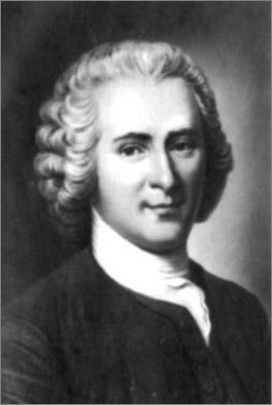
За все происходящее в мире, отвечает человек. И не во вне, не в других, а в самом себе должен искать он корни зла, терзающего мир. Уничтожить корни зла в собственной душе, принять на себя всю полноту ответственности за все, что творится в миро,- вот путь, который приводит к активной борьбе против конкретных социально-политических форм зла, утвердившихся в мире,- в первую очередь против фашизма, снимающего с человека ответственность уже тем, что он уничтожает индивида, превращая его в крошечную деталь механизма, осуществляющего идею, стоящую выше целей и ценности жизни отдельного человека и даже всего народа в целом.
 Собственный «театр абсурда»
Собственный «театр абсурда» Современная английская драма
Современная английская драма Драматизм образа Юрека
Драматизм образа Юрека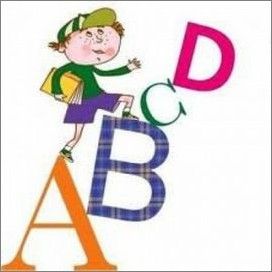 Конец Колина
Конец Колина Вторая поправка Мерсера
Вторая поправка Мерсера Первая поправка
Первая поправка Атмосфера страха
Атмосфера страха Творческая эволюция
Творческая эволюция Эксперимент строительства социализма
Эксперимент строительства социализма Внешняя картина
Внешняя картина