Власть и угнетение
Подходя к своим подчас конкретным темам чисто эмоционально, Жене неизбежно мифологизирует их, воплощает в ритуале.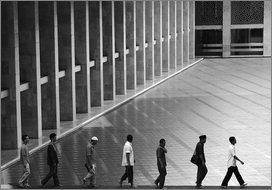 Один из наиболее характерных примеров — пьеса «Негры», где группа актеров-негров должна исполнить перед белой аудиторией ритуал своего отмщения белым. На сцене европейцев представляют сами негры в масках Королевы, Судьи, Губернатора, Миссионера, Слуги. Перед этими символическими персонажами негры разыгрывают ритуал соблазнения и убийства Белой женщины, а затем, после того, как Королева со свитой покидает верхнюю площадку сцены, изображая приезд в колонию карательной экспедиции, негры демонстрируют расправу с теми, кто олицетворяет власть и угнетение. Одновременно Жене, по своему обыкновению, дробит планы театральной иллюзии, давая зрителям понять, что параллельно с ритуалом, исполняемым на сцене, где-то за кулисами, «в действительности» происходит суд над предателем движения, его казнь и выборы нового делегата в Африку.
Один из наиболее характерных примеров — пьеса «Негры», где группа актеров-негров должна исполнить перед белой аудиторией ритуал своего отмщения белым. На сцене европейцев представляют сами негры в масках Королевы, Судьи, Губернатора, Миссионера, Слуги. Перед этими символическими персонажами негры разыгрывают ритуал соблазнения и убийства Белой женщины, а затем, после того, как Королева со свитой покидает верхнюю площадку сцены, изображая приезд в колонию карательной экспедиции, негры демонстрируют расправу с теми, кто олицетворяет власть и угнетение. Одновременно Жене, по своему обыкновению, дробит планы театральной иллюзии, давая зрителям понять, что параллельно с ритуалом, исполняемым на сцене, где-то за кулисами, «в действительности» происходит суд над предателем движения, его казнь и выборы нового делегата в Африку.
Различные метаморфозы
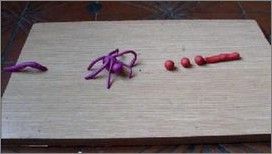
В разных формах интеллектуализм и, в частности, сартровская теория ситуации, продолжает быть одним из средств анализа человеческого поведения в современных условиях, Однако на смену идут уже другие направления, связанные так или иначе с традициями интеллектуальной драмы, но резко отличающиеся от нее по самой своей структуре.
Привлекательность синтетической драмы
Однако сама по себе привлекательность синтетической драмы для современных композиторов не снимает основного противоречия оперного творчества наших дней — постоянных поисков новых путей и — одновременно — прочности, цепкости старых навыков оперного письма, приверженности традиционным формам. Преобразования в мире оперы велики, но ни один жанр не сохранил, пожалуй, столько традиционного, как опера. Эту избитость, изношенность приемов нередко пародировали сами композиторы. Достаточно вспомнить «Оперу нищих» в Англии XVIII в. или «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева. Сравнительно свежий пример — «Карьера мота» Стравинского (1951), где весь привычный арсенал оперных средств есть одновременно предмет и любования, и насмешки. Сочиняя в свои поздние годы «Карьеру мота», Стравинский не хотел и не мог работать «всерьез» в оперном жанре. Театр Стравинского известен по его «Истории солдата», где рассказчик и мимический актер порознь разыгрывают одну и ту же ситуацию, по его опере-пародии «Мавра». (Опера «Соловей» в этом смысле — явление побочное, не имевшее продолжения.)
Рисованные картины
Рисованные картины на экране органично переходили в действие актеров на сцене.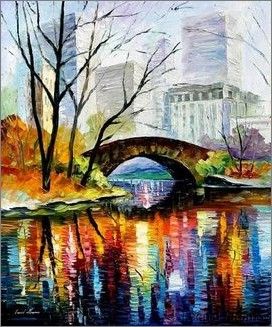 В брехтовском спектакле «Швейк во второй мировой войне» Планшон применил вращающуюся сцену и прожектора для создания крупных планов и панорамирования. Правда, чрезмерное увлечение чисто техническими находками и зрелищной стороной спектакля несколько снизило его идейно-политическое звучание.
В брехтовском спектакле «Швейк во второй мировой войне» Планшон применил вращающуюся сцену и прожектора для создания крупных планов и панорамирования. Правда, чрезмерное увлечение чисто техническими находками и зрелищной стороной спектакля несколько снизило его идейно-политическое звучание.
Герман Ройтер
Из всех названных до сих пор композиторов немецкого музыкального театра Герман Ройтер, может быть, наиболее компромиссный и наименее оригинальный. Это достаточно ясно уже из упрощенческого «классицизма» с реминисценциями из немецкой романтической музыки и заимствованием некоторых технических приемов у Орфа в «Одиссее» (1942), вероятно несвободном от «стилистической конъюнктуры» 30-40-х годов. Однако Ройтер и сегодня еще пользуется солидным влиянием. Начиная свою творческую биографию в русле фестивалей Донауэшингена и Баден-Бадена 20-х годов, Ройтер в целом остался верен принципам эпического музыкального театра, руководствуясь теми представлениями о театральном новаторстве, которые он смог почерпнуть у Брехта. Сегодня в его многочисленных композициях радикализм драматургии все же идет далеко впереди поисков в области нового языка и стиля.
Столкновение реалистических контрастных характеров
Выразились в пристрастии к «шекспиризации» у его последователей — в создании широких живописных исторических полотен с изображением многих ярких, красочных живых человеческих фигур, в остром драматическом столкновении реалистических контрастных характеров.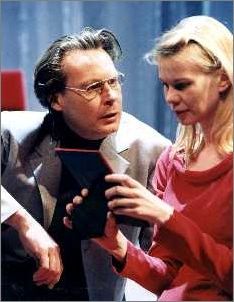 Английской исторической драме был чужд всегда интерес к античной тематике, которая легла в основу большинства исторических французских пьес, написанных в 30-50-е годы. Английской исторической драме не свойственно и тяготение к совершенно откровенным притчам, напоминающим в иных своих частях грубоватое и эффектное площадное зрелище, хотя Брехт также писал и говорил всегда о связи своих исторических хроник и исторических парабол с театром «елизаветинцев». Английская историческая драма классичнее и строже. Она интересовалась и продолжает интересоваться в особенности сложными, переломными эпохами — эпохами смут, острого и напряженного столкновения судеб классов, государств конца одной общественной формации и начала другой. XIV, XV, XVI вв.- излюбленное время многих английских исторических пьес.
Английской исторической драме был чужд всегда интерес к античной тематике, которая легла в основу большинства исторических французских пьес, написанных в 30-50-е годы. Английской исторической драме не свойственно и тяготение к совершенно откровенным притчам, напоминающим в иных своих частях грубоватое и эффектное площадное зрелище, хотя Брехт также писал и говорил всегда о связи своих исторических хроник и исторических парабол с театром «елизаветинцев». Английская историческая драма классичнее и строже. Она интересовалась и продолжает интересоваться в особенности сложными, переломными эпохами — эпохами смут, острого и напряженного столкновения судеб классов, государств конца одной общественной формации и начала другой. XIV, XV, XVI вв.- излюбленное время многих английских исторических пьес.
Хор пожарников
Все особенности проявили себя в творчестве наиболее оригинального представителя швейцарской школы интеллектуалистов — Макса Фриша. Героем его драматургии является безответственный представитель толпы, обыватель. В этом смысле Фриша можно считать прямым последователем Брехта. В пьесах «Андорра» и «Бидерман и поджигатели» Фриш по-брехтовски исследует пристально и беспощадно весь механизм «шкурных» интересов трусости, эгоизма и безответственности толпы Бидерманов, поведение которых и приводит к тому, что они преспокойно терпят у себя на чердаке баки с бензином, холуйски угощают «поджигателей» жирным гусем (снова этот пресловутый символ немецкого филистерства — гусь!) и угодливо дают в руки «поджигателей» спички; затем удивляются, что в их доме начинается пожар.
Проблемы «свободы и порядка»
Уже во время самого мирного митинга убит другой солдат — Хорст.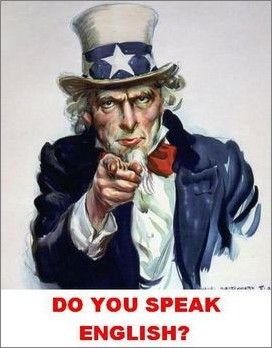 Пацифизм не действует, пацифизм бессилен. Как приостановить убийства на земле? Будет ли им конец? Тяжким раздумьем приговоренного к смерти сержанта армии ее величества королевы английской Масгрейва, так похожего на проповедника, аскета и фанатика, заканчивается пьеса Ардена. В предисловии к ней автор заметил также, что произведение его направлено против насилия, и не дай бог подумать, что оно защищает «кровавую революцию», но и «полный пацифизм» для автора — слишком «твердая доктрина». В другой статье, отвечая на вопросы журнала «Le theatre dans le monde» о судьбах реализма, Арден заявил, что во всех своих пьесах он исследует прежде всего проблемы «свободы и порядка» и считает их как психологическими, так и социальными, полагая, однако, что «социальные связи в большей мере, чем психологические, стимулируют современных писателей». В сезон 1959/(50 г. внимание лондонской театральной общественности приковала постановка пьесы Роберта Болта «Человек для любой поры», в сезон 1960/61 г.- пьесы Джона Осборна «Лютер». Примерно в то же время с успехом были осуществлены постановки «Святой Иоанны» Шоу и «Жизни Галилея» Брехта. Во всех этих спектаклях говорилось о верности и неверности, об умении быть стойким и об отсутствии стойкости, о совести и общественном долге, о природе героического.
Пацифизм не действует, пацифизм бессилен. Как приостановить убийства на земле? Будет ли им конец? Тяжким раздумьем приговоренного к смерти сержанта армии ее величества королевы английской Масгрейва, так похожего на проповедника, аскета и фанатика, заканчивается пьеса Ардена. В предисловии к ней автор заметил также, что произведение его направлено против насилия, и не дай бог подумать, что оно защищает «кровавую революцию», но и «полный пацифизм» для автора — слишком «твердая доктрина». В другой статье, отвечая на вопросы журнала «Le theatre dans le monde» о судьбах реализма, Арден заявил, что во всех своих пьесах он исследует прежде всего проблемы «свободы и порядка» и считает их как психологическими, так и социальными, полагая, однако, что «социальные связи в большей мере, чем психологические, стимулируют современных писателей». В сезон 1959/(50 г. внимание лондонской театральной общественности приковала постановка пьесы Роберта Болта «Человек для любой поры», в сезон 1960/61 г.- пьесы Джона Осборна «Лютер». Примерно в то же время с успехом были осуществлены постановки «Святой Иоанны» Шоу и «Жизни Галилея» Брехта. Во всех этих спектаклях говорилось о верности и неверности, об умении быть стойким и об отсутствии стойкости, о совести и общественном долге, о природе героического.
Жан Жене
Жан Жене делал реальностью эстетическую иллюзию и тут же на глазах разрушал ее.
Жене, которого раньше причисляли к «театру абсурда», теперь, с возрождением самого термина, оказался во главе «театра жестокости». Основанием для причисления его к «театру абсурда» была проходящая через все пьесы Жене тема иллюзорности действительности. Но поскольку до разрушения иллюзии Жене закрепляет ее в ритуале, поборники теорий Арто зачисляют его в свои ряды. Его люди, подобно Пер Гюнту, представляют собой лишь слои кажущихся качеств, они лишены собственной сущности и являются только воплощением поэтических метафор. В пьесе «Служанки» одна из сестер-служанок — Клер — в отсутствие хозяйки воображает себя ею, а другая — Соланж — оказывается на месте Клер.
Метафоричность языка французской драмы
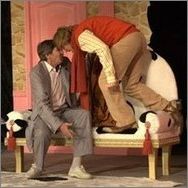
Гамлетовское «Слова, слова, слова…» стало как бы эпиграфом ко всему разрушительному, анти идеологическому пафосу абсурдистской драмы. Как в ее первоначальный, французский период, так и в период ее дальнейшего, английского развития. В английском абсурде доминирующей интонацией стало раздражение на весь белый свет, главной темой — взаимонепонимание близких людей; мотивы пресловутой «некоммуникабельности», если и родились в драме француза Камю «Непонимание» (1944), то по-настоящему были развиты именно в английской драме 50-х годов, в пьесах «рассерженных», а затем в пьесах английского абсурда. Только позднее английская драматургия обратится к исследованию социальных, бытовых, исторических аспектов современного мира.
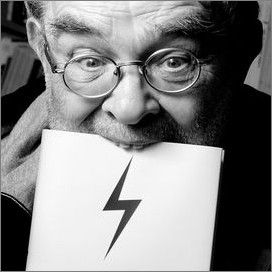 Собственный «театр абсурда»
Собственный «театр абсурда»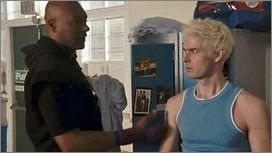 Современная английская драма
Современная английская драма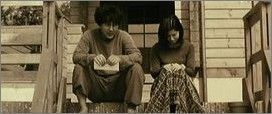 Драматизм образа Юрека
Драматизм образа Юрека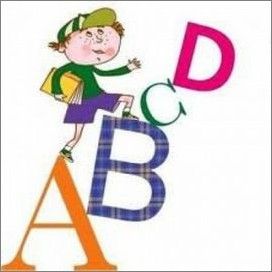 Конец Колина
Конец Колина Вторая поправка Мерсера
Вторая поправка Мерсера Первая поправка
Первая поправка Атмосфера страха
Атмосфера страха Творческая эволюция
Творческая эволюция Эксперимент строительства социализма
Эксперимент строительства социализма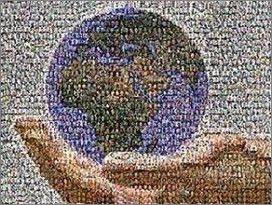 Внешняя картина
Внешняя картина